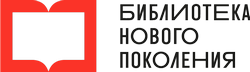Документальный очерк
СПРАВКА
Плеве Вячеслав Константинович (1846-15(28).7.1904 г.).
В 1867 году окончил Петербургский университет. Служил в судебном ведомстве. С 1881 года – директор департамента полиции. В 1884-94 годах – сенатор и товарищ министра внутренних дел. С 1894 года государственный секретарь и главноуправляющий кодификационной частью при Государственном совете. С 1899 года – министр, статс-секретарь по делам Финляндии. В апреле 1902 года назначен министром внутренних дел и шефом жандармов; проводил крайне реакционную политику, широко применял репрессии».
ЦИРКУЛЯРЫ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ
Этот террористический акт был встречен всеобщим сочувствием. «Радостно вздохнет каждый обитатель обширной Руси, услыхав благую весть», – так, например, начиналась прокламация по поводу убийства, изданная Петербургским социал-демократическим комитетом.
Тем временем департамент полиции, несмотря на блестяще поставленную, казалось бы, агентуру в охранных отделениях, не мог сам найти следов для разыскивания фамилии убийцы, как свидетельствуют три шифрованные телеграммы директора департамента Лопухина на имя начальника Московского охранного отделения.
17 июля 1904 г.
«Убийца по виду сознательный ремесленник или сельский учитель, видимо с юга, выше среднего роста, телосложения плотного, блондин, рыжеватый, слабые следы оспы на обеих щеках, нос горбинкой, усы темно-русые подстриженные, лицо русское, одет в железнодорожную форму, он заявляет принадлежности боевой организации, подготовлявшей несколько неудачных покушений также Северной гостинице, через час после события задержан на Неве некий еврей, выбросивший воду какой-то сверток, подозревается соучастии. Телеграфируйте не отлучался ли кто-либо наблюдаемых членов боевой организации, учините агентурные розыски».
Тоже «По некоторым данным можно заключить, что убийца лечился в Москве может быть от нервной болезни. Произведите по имеющимся у нас приметам и этим указаниям тщательный розыск во всех лечебных заведениях Москвы и результате телеграфируйте».
18 июля «Убийца бреду называет имена: Петька, Миша, Валентин, Николай Ильич, себя называет Александром Ивановичем Петровым, но имя не настоящее».
«В дополнение к циркуляру от 17 июля 1904 года за № 8292, директор департамента полиции уведомляет Вас, милостливый государь, что личность убийцы статс-секретаря Плеве ныне вполне установлена и таковым оказался разыскиваемый, циркуляр от 12 декабря 1903 г., за № 12 № 12500, бывший студент Московского университета Егор Сергеев Сазонов».
«СПРАВКА.
Сазонов Егор Сергеевич, сын крестьянина, бывший студент Московского университета, родился 26 мая 1879 года в селе Петровском, Уржумского уезда, Вятской губернии, раскольник, воспитывался в Уфимской гимназии, по окончании коей поступил в Московский университет, откуда был уволен со второго курса в апреле 1901 года за участие в студенческих беспорядках; отец Сергей Лазарев, мать – Акулина Логинова и брат Зот проживают в г. Уфе, где отец и брат занимаются лесной торговлей.
На основании высочайшего повеления, последовавшего во 2 день июля 1902 года за государственное преступление подлежит высылке в Восточную Сибирь под гласный надзор полиции на 5 лет.
Следуя в Якутскую область, назначенную ему местом водворения для отбытия надзора полиции, Сазонов 28 августа 1903 года из села Усть-Балайского, Иркутск. уезда и губернии, скрылся неизвестно куда.
ПРИМЕТЫ: рост 2 арш. 8,25 вершка, телосложения посредственного, производит впечатление скромного молодого человека, волосы темно русые с рыжеватым оттенком, немного курчавые, зачесывает их кверху, глаза карие, голова продолговатая среднего размера, лоб прямой, высокий, нос римский, подбородок острый, лицо продолговатое, румяное, в веснушках, рот маленький, губы тонкие, голос теноровый».
Убийство Плеве
(Из письма Сазонова)
«Дорогие товарищи! Отвечаю на вашу просьбу сообщить вам некоторые подробности о «деле 15 июля 1904 года». Едва ли я могу дать вас что-нибудь новое, кроме того, что уже, наверное, публиковалось в революционной печати, то есть, кроме обнаруженного следствием.
Мой костюм железнодорожного служащего объясняется тем, что дело должно было произойти где-нибудь поблизости вокзалов: в этом костюме я не обращал на себя внимание среди массы железнодорожников, проходивших там. Предполагают, что бомбу я нес совершенно открыто, под мышкой. По показаниям одной бабы, моя бомба была завернута в газету и походила на колбасу или круг холста.
При появлении на место действия я по обстановке заметил, что встреча с Плеве неминуема… Обстановка была обычная, плевинская: усиленный наряд полиции, конной и пешей, начиная с Балтийского вокзала и по всему Измайловскому проспекту. На тротуаре цепь агентов самой разнообразной формы, босяки и элегантно одетые господа, то стоявшие в задумчивой позе людей, погруженных в заоблачные мечтания, то прогуливавшиеся ленивой, барской походкой, но на все лицах каинова печать, у всех алчные, загадочные, блудящие, нахальные взоры. Жутко и весело идти с бомбой под перекрестным огнем таких взоров. Мой защитник Карабчевский весьма метко выразился, что мне пришлось «пробиваться сквозь стену охраны», прибавлю, с риском в любой момент получить неосторожный толчок и взлететь преждевременно на воздух.
Известно, что я шел от Варшавского вокзала навстречу Плеве. Карету министра я завидел очень далеко, шагов за 70 или дальше. О ее приближении я мог бы судить еще раньше по той ажитации, какая началась в этот момент среди полиции и агентов.
Как раз посредине между мной и каретой, приблизительно на самом месте роковой встречи, остановилась конка. Мне пришлось убавить шагу, чтобы дать конке время уехать или карете приблизиться; это-то замедление шага, вероятно, и обратило на меня внимание некоторых свидетелей, утверждавших потом, что они «заметили» меня.
Я очень хорошо ориентировался в окружающем: заметил, что на тротуаре нейтральной публики было больше, чем обыкновенно, то есть немного, около тротуара изредка стояли извозчики, па месте встречи, как раз, их не было. На мое счастье и конка тронулась, место очистилось. Да и пора было.
Быстро, но не бегом, пошел я навстречу, наперерез карете, с целью как можно ближе подойти к ней. Уже я подошел почти вплотную, по крайней мере, мне так казалось. Я увидел, как Плеве быстро переменил положение, наклонился и приник к стеклу. Мой взгляд встретился c его широко раскрытыми глазами. Медлить было нельзя: наконец-то мы повстречались. Я был убежден в успехе и не знал, что происходит за спиной у меня: может быть, меня уже ловят, может быть, Плеве крикнет или выскочит из кареты на противоположную сторону. Карета почти поравнялась со мной. Я плавно раскачнул бомбу и бросил, целясь прямо в стекло…
Что затем произошло, я не видел, не слышал, все исчезло из глаз и сознания. Но уже в следующий момент сознание вернулось. Я лежал на мостовой. Первая мысль – это удивление, что я еще жив Я встрепенулся, чтобы подняться, но не почувствовал тела: как будто, кроме мысли, у меня ничего не осталось.
Мне страстно хотелось узнать о последствиях; кое-как приподнялся на локоть и оглянулся: сквозь туман увидел валявшуюся неподалеку красную генеральскую шинель и еще что-то, но ни кареты, ни лошадей. Блаженство победы, охватившее меня, вырвалось в крике: «Долой самодержавие!» По показаниям свидетелей, я крикнул: «Да здравствует, свобода!»
Не зная, насколько тяжело я ранен, я почувствовал желание не даваться живым, но бессильным врагу. «Буду бредить, – подумалось мне, – лучше харакири, по образцу японцев, чем гнусные руки жандармов».
Попытался достать из кармана тужурки приготовленный для отпора револьвер, но руки мои не повиновались мне.
А между тем, на мой крик подбежал агент-велосипедист, всегда сопровождавший карету Плеве. Он упал на меня, придавил своим телом… и началась обычная в таких случаях история: Гартман (велосипедист) первый начал меня бить. На суде он сам очень живописно изобразил, как он меня бил: «Сначала я ударил его по правой щеке, – докладывал он и в то же время жестом показал процедуру заушения, – а затем ударил по левой щеке».
На крики Гартмана: «Вот он, преступник!» – подбежал какой-то полицейский чин, стал пинать меня и кричал: «Ах ты, сволочь, чуть и меня-то не убил!».. Подбежали еще другие и били меня, кто как хотел: кулаками, пинками, в лицо, голову, бока, ноги, топтали меня… Но я не чувствовал ни боли, ни обиды: мне было все равно. Было одно противно: когда стали плевать в лицо, какая-то красная, остервеневшая от животной злобы рожа склонилась надо мной и звучно, смачно харкала мне в глаза. Кричали: «Где еще бомба?» Мне казалось излишним, если бы мой револьвер выстрелил при встрёпке и кого-нибудь нечаянно ранил, и я сказал: «Отстаньте, бомбы нет, возьмите из кармана револьвер!»
Свидетели-агенты старались уверить, что я сопротивлялся, не хотел даваться им в руки и отдать револьвер. Их счастье, что это было не так: я был чересчур слаб, чтобы думать о бегстве или сопротивлении…
Били, били меня на мостовой, затем решили унести с улицы: схватили за ноги и поволокли так, что голова стучала о мостовую. Втащили на третий этаж Варшавской гостиницы, в отдельный номер. Пока тащили по лестнице, с молчаливой злобой угощали меня пинками в спину, щипали. Бросили на голый пол, сорвали всю одежду и опять били со скрежетом зубовным. Долго ли я пролежал там нагой на голом полу, не помню, был в полузабытьи… Как сквозь туман видел, что в комнате толпились полицейские, жандармы, судейские… будто бы кто-то ощупал мне голову и сказал: «Будет жить, но бить опасно».
Почти не помню, как и когда свели меня в больницу, Я был весь разбит или избит – трудно судить, – вероятно, то и другое. Лицо вспухло, так что, по словам видевших меня в то время, страшно было смотреть: щеки отвисли мешками, глаза вышли из орбит, у подбородка образовался как бы зоб. Руками я почти не владел, они были опалены. Все тело с ног до головы было в бинтах и повязках. Под хлороформом извлекли из меня осколки бомбы и отрезали два пальца на ноге, С ранами потом вышли осложнения; в ране на животе образовалось злокачественное нагноение, вся ступня левой ноги была разбита не то взрывом, не то пинками охранников, началось воспаление сухожильных влагалищ, мучительные перевязки, бесконечные разрезы. Поговаривали, что я могу не выжить, что, пожалуй, придется отрезать всю левую ступню. Как результат тяжелого падения на мостовую или опять-таки шпионских пинков в спину – травматический плеврит… И в довершение всего сильные головные боли, адский шум в ушах…
Я находился в ужаснейшем положении неведения, беспомощности, в темноте. Физическая боль от ран была сущими пустяками сравнительно с моральным адом, в который попал: меня угнетала мысль, что я предатель и еще могу в бреду наговорить бог знает что. Звал смерть, завидовал счастью, которое было так возможно, близко и так обмануло меня; счастью умереть на деле.
Особенно старались фельдшера узнать мою фамилию. Недели две я молчал. Но в их руках уже были данные, основанные на моем бреде, о том, что я бежал из Сибири, был за границей и что-то о местах, близких к родине.
Они нащупывали почву, приближаясь к цели.
Потом мне объявили, что я опознан.
Первые два с половиной месяца я лежал пластом, недвижимый, беспомощный, как ребенок. Только в конце третьего месяца начал присаживаться, на четвертом уже взялся за костыли.
На суд вышел еще совсем слабым, с тяжелой головой, не владея мыслями: это сказалось на процессе… Мне было не до суда…»
«СПРАВКА. Сазонов был приговорен Петербургской судебной палатой к ссылке в каторжные работы без срока. 28 декабря 1904 года приговор вошел в силу. Но по манифесту, изданному в связи с рождением наследника, бессрочная каторга для Сазонова могла быть заменена срочной каторгой на 14 лет «по распоряжению надлежащей административной власти». Для отбывания наказания Сазонов был отправлен в Шлиссельбургскую тюрьму, в которой он пробыл с 24 января 1905 года по 30 января 1906 года. Узниками этой тюрьмы в разные годы были известные народовольцы Ипполит Мышкин, Николай Морозов, Герман Лопатин, Вера Фигнер, Александр Ульянов… В Музее революции СССР хранится грифельная доска, на которой 8 человек, освобожденных из Шлиссельбургской крепости 28 октября 1905 года, оставили свои автографы. Среди них – ставший известным ученым-академиком Николай Морозов, друг семьи Карла Маркса, первый переводчик «Капитала» на русский язык Герман Лопатин. Грифельная доска была передана ими на па мять оставшемуся в крепости Егору Сазонову и чудом уцелела».
Из писем к родым
30 января 1906 года.
«Дорогие мои. Пишу наскоро. Сегодня меня увозят, как сказали, в Москву. Что ждет дальше, абсолютно не знаю. Надеюсь, департамент полиции не сочтет возможным долго держать вас в томительной неизвестности и своевременно даст вам разъяснения относительно моей особы. А пока, умоляю вас, не волнуетесь преждевременно. Не беспокойтесь, не предавайтесь излишней тревоге за меня, что бы со мной ни случилось. Я уже писал вам в первом письме, что я заранее готов ко всякого рода переменам в моей судьбе и встречу их во всеоружии бодрости и хладнокровия. Так и случилось. Я не знаю, что со мной сделают, но чего-нибудь, превышающего силы моего терпения, во всяком случае не жду. Уверяю вас, я не настолько слаб и изнежен, хотя ваша любовь и нежная заботливость порядочно избаловали меня, чтоб придавать большое значение тем маленьким неудобствам, которые еще могут встретиться на моем пути. У меня достаточный запас, по крайней мере, на несколько лет здоровья, бодрости и энергии, вы можете быть убеждены, что я еще доживу до лучших дней. А вы доживете ли?..»
(МАТЕРИ)
Май (Бутырская тюрьма).
«…У меня нет страданий, я не могу страдать и мучиться: что бы мне ни выпало на долю, я все, все, даже смерть с радостью приму за то святое дело, которому я на веки вечные отдался. Я в него верю, как в спасение своей души: если бы мне самому не пришлось дожить до того момента, когда мое дело окончательно победит, я не пожалею об этом: если мы умрем, дело, которое мы любим больше всего на свете, будет жить.
Не оплакивай же меня, потому что я счастлив, так счастлив, как только может быть человек…»
22 июня.
«Наше положение пока не выяснилось. Администрация поговаривает, что некоторых из нас скоро выпустят в вольную команду, ждут указаний и распоряжений из главного управления каторги, которое отсюда находится верстах в тридцати (в Горном Зерентуе)… Вольная команда – это жизнь около тюрьмы, но не в тюремных стенах; здесь тоже пахнет волей…
Нас здесь ждали и приняли с распростертыми объятиями…»
17 сентября.
«…Дорогая, в своих печалях никогда не забывай, что ты болеешь одною болью вместе с миллионами русских матерей. Не забывай же чужих печалей и не предавайся слишком своей.
Я рад каждой твоей строчке… Эта радость могла бы омрачиться только в одном случае: если бы ты вздумала хулить мою святыню. Но я знаю, насколько ты далека от этого. Поэтому пиши, не стесняйся, все, что тебе бог на душу пошлет. Я рад, что вы все пока живы, здоровы. Мы здесь тоже здоровы, живем по-старому. Дорогие, простите, может быть, я затруднил вас, прося у вас денег, в прежних письмах, ведь я предупреждал, что сам я ни в чем не нуждаюсь, а наш «монастырь» нуждается: поэтому-то я и писал, чтобы вы присылали денег, но не из своих средств, – личных средств на то не хватило бы, и я не решился бы обратиться с такою просьбою – я просил о деньгах, которые могли бы собраться среди людей, признающих своею обязанностью помогать тем, кто борется… А денег мне не надо, не присылайте…»
1907 год. Февраль.
«Сегодня я отправляюсь с 15 человеками других товарищей в Алгачинскую тюрьму, за 40 верст отсюда.
Ты из газет или других источников узнаешь, что эта высылка является наказанием. Узнаешь ты и мое «преступление». Мне нужно объяснить тебе, ложно или правильно возводимое на меня обвинение. Ты меня знаешь и понимаешь, что если бы я захотел что-нибудь сделать, что мне казалось бы нужным по моим взглядам, я сделал бы это, не взирая ни на какие угрозы…»
Горный Зерентуй, 9 сентября.
«…Снова можете поздравить меня с новосельем… Тюрьма большая, каменная, на манер российских. Около сотни товарищей, в одной камере со мной до 40. Сижу на втором этаже и имею удовольствие видеть не стены, а кусочек воли: сопки, деревню, движение людского муравейника. В камере чистота, о которой заботятся сами товарищи, и, несмотря на многолюдие, сравнительная тишина: публика усердно занимается, читает, учится. Значит и я могу погрузиться в науку, за которой позабываешь о замках и решетках… Моя просьба: не может ли кто-нибудь из родных, имеющих беллетристические произведения русских писателей (Тургенева, Достоевского, Толстого, Горького, Л. Андреева и др.), поделиться с нами своими богатствами? За присылку каждой такой книги буду очень и очень благодарен. Иностранным писателям: Гюго, Диккенсу, Золя и др. буду тоже очень рад. Книжный вопрос для нас очень важный вопрос, особенно, когда так плохо с пищевым вопросом: хорошая умственная пища помогает забывать о недостатках физического питания…»
1910 год. 31 октября.
«Милый мой брат, дорогая Люба. Удивительное душевное состояние я теперь переживаю: не то я стою одною ногою за воротами тюрьмы, не то еще дальше от воли, чем когда-либо. Не надеяться нельзя, когда остается уж меньше трех месяцев и когда твои бумаги уже ушли в Читинское областное управление для назначения волости…»
Так писал Сазонов своему брату. Но судьба уготовила ему иное.
СМЕРТЬ
Описание последних дней жизни Сазонова из «Революционной России» (№ 33, январь 1911 года).
«Медленными, но верными шагами приближалась катастрофа. Ее неизбежность чувствовалась, висела в воздухе. И чем ближе становился день выхода Сазонова с каторги, тем яснее становилось, что двери тюрьмы откроются только для его трупа.
Первою мерою в этом направлении была замена сравнительно «смирной» роты, несшей до тех пор обязанности по внешней охране тюрьмы, – другой ротой, отборно черносотенной. Этой ротой, вплоть до самого ее прихода, не раз «пугали» заключенных тюремные власти. И действительно, она ознаменовала свое прибытие установлением нового режима – режима сплошного террора. То и дело, особенно ночью, тот или другой часовой стрелял в окно камеры – и все другие поддерживали его выстрел целой канонадой, выпуская иногда до полусотни пуль. Стреляли, заметив у окна заключенного, стреляли, когда тень его, отбрасываемая лампочкой, падала на окно, стреляли, когда часовому какой-либо шум или передвижение в камере казались подозрительными. Первые дни стреляли по разным случайным окнам, большей частью уголовных. Затем, по-видимому, лучше ориентировались в обстановке: все последние обстрелы правильно и систематически имеют своей целью окна «политических».
Вскоре, без всякого повода, подверглось правильной канонаде окно камеры Егора Сазонова. Стрельба была так настойчива, что после нее камера потребовала особого ремонта. Но Сазонов и здесь уцелел, хотя был на волосок от смерти…
Насколько смерть Сазонова подготовлялась, насколько все действия властей обнаруживали совершенно недвусмысленно их намерения, насколько цинично готовилось там, в Горном Зерентуе, почти не замаскированное предумышленное убийство – можно судить хотя бы по таким кратким отрывкам из писем, полученных от брата Егора Сазонова Изота одним из наших товарищей.
От 16 ноября 1910 г., в страшной краткости открытке, отправленной из Камышина, Изот Сазонов писал:
«Привет от Авеля. Вероятно, он, по «независящим обстоятельствам» скоро уйдет ко Льву Толстому…»
От 26 ноября, оттуда же, он писал еще раз:
«В Горно-Зерентуйскую тюрьму приехал новый начальник тюрьмы Высоцкий – второй Бородулин. Ждут конца. Да минет чаша сия…»
Чаша не минула Егора Созонова. Через два дня после того, как брат его написал эти простые, и в простоте своей такие ужасные слова «ждут конца» лаконические телеграммы официального агентства известили о нескольких попытках каторжан покончить жизнь самоубийством и о смерти Егора Сазонова. «Идущим до конца», «отмеченным перстом судьбы» был он всю свою жизнь. Таким он был и в смерти. Через некоторое время пришли и первые более подробные известия о катастрофе. «Второй Бородулин «демонстративно ознаменовал свое прибытие и «новую эру розгами, примененными к нескольким, наудачу выхваченным «политикам». Настало время привести в исполнение старое решение, принятое каторжанами: ответить на это массовыми самоубийствами.
И эта ужасная перспектива заставила сердце Сазонова содрогнуться. Всем сердцем страдая при мысли о том, что товарищи примут это фатальное решение; услыхав, что двое заключенных, не дожидаясь общего соглашения, уже сделали попытки лишить себя жизни, и ошибочно считая их умершими – Сазонов снова твердою рукою вынул запасенную дозу яда – на этот раз тщательно проверенную – и выпил его.
Он оставил после себя короткое письмо, к которому нечего прибавить.
«Товарищи! Сегодня ночью я попробую покончить с собой. Если чья смерть и может приостановить дальнейшие жертвы, то прежде все го моя. А потому я должен умереть. Чувствую это сердцем; так больно, что я не успел предупредить смерть двух умерших сегодня. Прошу и умоляю товарищей не подражать мне, не искать слишком быстрой смерти! Если бы не маленькая надежда, что моя смерть может уменьшить цену, требуемую Молохом, то я непременно остался бы ждать и бороться с вами, товарищи! Но ожидать лишний день – это значит, может быть, увидеть новые жертвы. Сердечный привет, друзья, и спокойной ночи!»
Кировская искра. – 1981. – 18 июня (№ 73). –
– С. 4; 25 июня (№ 76). – С. 4; 2 июля (№ 79). – С. 4.
842 total views, 1 views today