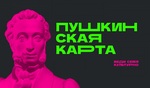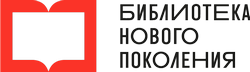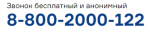К 80-летию II съезда РСДРП
Это было в августе 1945 года в только что освобожденном от японских захватчиков городе Харбине. Заместитель командира по политчасти отдельного инженерно-аэродромного батальона майор Нарсеев попросил одного знающего русский язык китайца достать ему местную газету на русском языке. Дело в том, что в Харбине в то время часть города занимали русские эмигранты, бежавшие в годы революции и гражданской войны из России. Вскоре китаец принес такую газету. Называлась она «Маньчжурское слово». Так себе газета, ничего особенного. Набита трескотней о скорой победе японцев над американцами и русскими.
И вот на последней полосе внимание майора привлекло вдруг объявление, в котором говорилось, что акционерное общество «Шамов и компания» в неограниченном количестве продает лес.
Что это? Неужели тот самый Шамов – бывший уржумский лесопромышленник?
И еще была встреча с пожилой интеллигентной женщиной – дочерью, как оказалось, бывшего крупного купца из Казани.
– Как же, бывала я и в Уржуме, – тихо и грустно говорила она. – Побывать бы перед смертью в родных местах… А силу-то свою вы доказали на деле…
Родные места… Вспомнилось Александру Прохоровичу Нарсееву тогда свое далекое дореволюционное детство в старинном купеческом городке у тихой речки Уржумки.
Хоть и бедно жила многодетная семья, но отец – бывший матрос, слесарь на винзаводе – твердо решил выучить свого смышленого сынишку, пристроить его к делу. И вот в последнем перед революцией году окончена трехклассная приходская школа, затем год в Цепочкинской двухклассной и, наконец, Уржумская ремесленная школа, дававшая хорошую трудовую закалку на всю жизнь, из ее стен выходили квалифицированные слесари, токари, кузнецы, столяры.
Хорошо учили в ремесленной школе и электроделу. Здорово пригодилось это Александру Нарсееву, когда в 1923 году началась электрификация Уржума. Стал он электромонтером на электростанции промкомбината. Им, четырем монтерам, пришлось тянуть всю электропроводку в городе. Конечно, нелегким было это новое для всех дело, но сознание его важности, сознание, что именно ты – первый, от тебя все зависит, придавало сил.
Пригодилась новая специальность и в армии, стал служить в полку связи во Владикавказе. Командиры скоро оценили ловкость и умение красноармейца Нарсеева, давали ему самые ответственные задания. А работа была непростая, надо было тянуть проводку в горах. И случилось несчастье. Попил он однажды, разгоряченный, студеной воды из горного ключа и простудился, заболел воспалением легких. Демобилизовали.
И вот опять Александр Нарсеев в родном Уржуме, опять он электромонтер.
В декабре 1926 года на открытом партийном собрании коллектива промкомбината передовой монтер был принят кандидатом в члены ВКП(б). Уком партии утвердил это решение собрания. И сразу же партийное поручение – стали посылать уполномоченным укома в ТОЗы (товарищества по совместной обработке земли).
Успешно пройден кандидатский стаж, и стал молодой рабочий членом партии – рядовым бойцом несокрушимой армии большевиков. Воля партии стала для него законом, дело партии – его кровным делом.
…В этот день, как обычно, Александр Прохорович дежурил на электростанции. Приходит заведующий, иди, говорит, в горсовет, пленум там собирается.
– Думал, что свет там не горит, – рассказывает Александр Прохорович, – взял с собой когти, инструмент. Прихожу, народу много. Поздоровался, сел. Слышу, объявляют организационный вопрос. Потом донеслись слова председателя райисполкома. Есть мол, предложение выдвинуть председателем горсовета рабочего Уржумской электростанции Нарсеева. А незадолго до этого пленума вышло постановление ЦК ВКП(б) о выдвижении рабочих от станка на руководящую партийную и советскую работу.
Проголосовали, словом, члены горсовета за мою кандидатуру, и стал я председателем горсовета.
Нелегко пришлось на новой должности молодому коммунисту, ведь это был переломный период, когда шло раскулачивание, лишались избирательных прав нэпманы, бывшие купцы, белогвардейцы и т. д. Не раз грозили убить. Так что без нагана в то время руководящие работники не ходили. Но советскую власть крепили, порядок наводили,
С большими трудностями горсовет взялся за проводку в городе водопровода. Первая его нитка тянулась от средней школы № 1 имени В. И. Ленина до районной больницы. Были установлены две первые колонки, одна – у тюрьмы, другая – у больницы на улице Красной.
А в августе 1933 года первый секретарь райкома партии И. А. Марченко пригласил Александра Прохоровича свой кабинет и говорит:
– В порядке партийной мобилизации на укрепление низового звена решено послать тебя, Прохорыч, председателем исполкома Решетниковского сельского Совета. Новый ответственный участок работы. Конечно, в районе уже была проведена сплошная коллективизация, но ведь надо было наладить колхозное производство. А на территории сельсовета ни одного коммуниста или комсомольца. Зато церковь работает во всю.
Хорошо, что прибыл в это время в сельсовет двадцатипятитысячник – рабочий Горьковского автозавода А. И. Голиков. Его избрали председателем колхоза. После него был прислан из Уржума Н. И. Каширских. Он тоже стал председателем колхоза.
– Хорошие были мужики, – вздыхает Александр Прохорович, – жаль, что погибли на фронте.
И стал председатель выводить сельсовет из отстающих в передовые.
– Этого я добился с помощью колхозного актива, членов сельсовета, – признается Александр Прохорович. – Здорово они работали, сами были инициаторами сдачи государству молока и мяса. Мы стремились, чтобы в каждом дворе колхозников была своя скотина, выделяли молодняк. И хорошо зажили колхозники вплоть до самой войны.
Вот так успешно справился коммунист Нарсеев со своими нелегким партийным поручением, не отступая, преодолевая любые препятствия. Эти качества, приобретенные в первые годы работы, помогли ему и в дальнейшем, когда с образованием Шурминского района он стал работать там в райисполкоме секретарем, заведующим отделом, председателем районной плановой комиссии, а затем инструктором райкома, заведующим военным отделом.
На этой последней должности и застала его война. В декабре 1941 года по партийной мобилизации он уже курсант Ленинградского военно-политического училища имени Энгельса, затем – старший политрук отдельного батальона связи, где обучали воинов перед отправкой на фронт.
Наконец, и он на фронте. Стал секретарем парткомиссии района авиационного базирования. Сначала на Северо-Западном, потом на Центральном, I-ом Белорусском фронтах. Подразделение должно было обеспечить авиацию всем необходимым от питания до боевых машин.
В 1944 году А. П. Нарсеев назначается заместителем командира отдельного инженерно-аэродромного батальона по политчасти. За успешное разминирование аэродромов в районе Гомеля большая группа бойцов и командиров батальона была награждена орденами и медалями. На груди у Александра Прохоровича появился орден Красной Звезды.
А второй орден Красной Звезды он получил в Маньчжурии, куда от стен поверженного Берлина был передислоцирован батальон.
«Мы – жуковцы!» – было написано на вагонах эшелона, везшего советских воинов по просторам освобожденной от врага Родины. И цветы героям-победителям летели в окна вагонов…
Демобилизовался Александр Прохорович, и опять будничная кропотливая и ответственная работа. Был до выхода на пенсию в 1965 году директором Ройского и Андреевского спиртзаводов, много лет на разных должностях работал в Шурминском, а затем в Уржумском райпотребсоюзах.
«Мы должны стараться поднять звание и значение члена партии выше, выше и выше» – эти ленинские слова – на обложке удостоверения, которое Александр Прохорович получил 18 февраля 1982 года в райкоме КПСС вместе со знаком «50 лет пребывания в КПСС». Он как мог поднимал это звание и с честью пронес его через всю жизнь.
Кировская искра. – 1983. – 30 апр. (№ 52). – С. 2-3.
452 total views, 1 views today