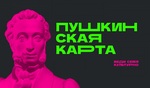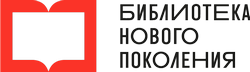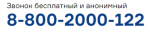Александр Минин. Белорецкая ярмарка
Россия, которую мы потеряли
Причина появления этого материала глубока, как моя щемяще-светлая любовь к своей малой, исторической родине. Ну, а повод, усадивший за стол перед чистым листом бумаги, прост, как та почтовая открытка.
Я обнаружил ее среди старых пожелтевших писем, перевязанных шпагатом в тугие пачки. Хранятся они в уржумском доме Мининых, куда при жизни бабушки и дедушки стекались письменные весточки от их многочисленных детей и внуков. На заинтересовавшей меня открытке штемпель города Ставрополя-на-Волге от 26 апреля 1962 года. Еще через пару лет город переименуют в Тольятти. Каллиграфическим почерком профессионального чертежника, каким являлся отец – топограф, маркшейдер, геодезист, – на той открытке написаны были поздравительные слова к Первомаю. Весточка адресовалась моему дедушке Кузьме Саввовичу, который скончался в ноябре 1964 года. На открытке, в конце краткого приветствия, приписка. Привожу ее дословно: «Шурик, как насчет карты Уржумского района? Сообщите, когда будет Белорецкая ярмарка?» Теплой и приятной волной накатили воспоминания…
Шурик… Мой двоюродный брат, тезка. Ему столько же: в августе пойдет 55-й год со дня рождения. Толковый и работящий теперешний глава уржумского дома. Здесь вырос, закончил школу. И у него самые светлые воспоминания о Белорецкой ярмарке…
Вот мы на заливных лугах речки Уржумки. Босоногие, как деревенская детвора. Яркое солнце на синем нёбе. Торговые ряды дощатых ларьков. Все в них есть, только готовь денежки. Мы, ребятишки, постоянно клянчим у подвыпивших отцовмелочь на какие-тосладости. А они, оживленные
от выпитого, в отпуске все же, да еще – на ярманке.
Именно так на местном диалекте звучит это слово. Шумное, задиристое, веселое. Как-то заспорили наши папаши: купить или нет дубовую бочку с пивом. Всерьез уже решили осуществить задуманное, да транспорта не нашлось, чтоб довести до дому намеченную покупку.
Помнится мне и тряпочный Петрушка, крикливый, занозистый. Издревле обязательный персонаж всех народных гуляний и русских ярмарок. Я мальчишкой, думается, видел уже одного из последних Петрушек, исторических народных любимцев. Или другое: шаткая карусель. Кем и как приводимая в движение? -–вопрос мало интересовавший тогда нас, шустрых мальчишек. Помнится, крутился и матерчатый шатер, в котором, видимо, ходило полдюжины здоровых мужиков, с ускорением вращая поперечины карусели. А визгу на ней было, веселья…
«Белорецка ярманка» – давняя достопримечательность города Уржума. Добрая слава шла о ней за пределами уездного (районного) центра. Большой удачей мои родители, тетушки и дяди считали подгадать свои отпуска к открытию, очередной Белорецкой ярмарки. При тогдашней скудности на магазинных полках, ярмарка поражала изобилием разного товара. Только успевай открывать кошельки.
С многочисленными покупками счастливые наши отпускники разъезжались по своим домам, разбросанным по городам и весям тогдашнего Советского Союза. А ярмарка оставалась в их сердцах и памяти, как другие достопримечательности Уржума: Митрофаниевская каланча, улица Советская
со старинными особняками и величавый, ныне подновленный на ней – Троицкий собор. Ярмарка первично и возникла перед ним, на торговой площади. В своем рассказе я использую материалы, любезно предоставленные мне в Уржумском краеведческом музее. Чем и хочу поделиться с тобой, любознательный читатель.
Сотню лет тому назад, а то и более, в Уржумском уезде проводилась дюжина разнообразных ярмарок. Назову некоторые – Вознесенская в с. Архангельском, Васильевская в Байсе, Богоявленская в Лопьяле, Никольская в Ашлани, Воздвиженская в Пустополье, Петропавловская в с. Петровском, что на самом Казанском тракте, Рождественская и Козьмодемьянская ярмарки в одноименных селах.
На эти торги более 17000 мастеровых людей только Уржумского уезда поставляли свои лучшие товары. Но более знаменитой, как бы
сегодня сказали, престижной, была Троицкая (позднее – Белорецкая) ярмарка, учрежденная в 1842 году. Однако она не являлась самой старой в Уржуме.
Намного старше ее была Приходская ярмарка, начинавшаяся ежегодно 3 ноября с прибытием крестного хода из губернской Вятки.
Семь дней стоял крестный ход в Уржуме с иконами Кафедрального собора и всех вятских церквей. И все эти дни местные и пришедшие священники служили в уржумских церквях. И все семь дней в Уржуме шумела, бурлила огромная ярмарка. При изобилии разнообразных товаров продавалась здесь домашняя скотина, предлагался широкий выбор лошадей.
Крестный ход упоминается в местных документах еще в 17 веке. Вот насколько стара была Приходская ярмарка. Постепенно она свое значение утрачивала. А на передний план выдвигалась ярмарка Белорецкая. Как и все подобные торговые мероприятия той поры, она всякий раз являлась настоящим праздником. Вот уж где гуляла и торговалась, веселилась и плакала пьяными слезами, пропивалась до нитки и сбивала солидные барыши загадочная и бесшабашная русская душа.
Что там «ярманка», обычный рядовой базар был для нее праздником. Читаю в мемуарах дедушки Кузьмы Саввича то место, где сватья Парамоновна, известная тем, что употребляла в своей речи все мыслимые вятские диалектические приставки к словам. Вот она наказывает мужу: «Завтра на базар-от поедешь, дак не забудь бутылку-ту из-под масла возьми. Купи масла-та!»
Базары были: в Уржуме – в субботу, в Лебяжье – в воскресенье, в Петровском – в понедельник… В этот день поздно вечером сват вернулся с базара «еле-мотахом». И сватья, нисколько не стесняясь нас, ребятишек, «прошила» муженька, как говорилось, «на все корочки»…
Вернемся к Белорецкой ярмарке. Получила она свое название от Белой речки, впадавшей некогда в Уржумку недалеко от горы Отрясовской. Ныне и речки той малой нет. Так – цепочка отдельных озерков, местами совсем заболоченных на пойменных лугах Уржумки. Ничего нет. Все в прошлом.
Но ведь было. Память народная сохранила веселость ярмарочной жизни, архивные документы – цифры и факты. В 1866 году, например, на Троицкую ярмарку было доставлено товаров на сумму 117 тысяч рублей,продано на 44 тысячи. Деньги по тогдашнему «курсу рубля» огромные. Когда можно было на пятак с алтыном в «обжорке», к примеру, выпить и сытно поесть.По итогам ярмарки 1868 года господин Девяткин, уржумский городской голова, написал заметку в губернскую газету. Там сказано, что только мануфактурных товаров было продано на 15 тысяч рублей, галантерейных – на 6500 рублей. Только городская гостиница от состоятельных постояльцев за период ярмарки выручила 800 рублей…
Нет нужды утомлять читателя этими цифрами. Скажем, что еще какое-то время оборот Троицкой (Белорецкой) ярмарки держался на уровне упомянутого года. Например, в 1886 году было доставлено товаров на сумму 154 тысячи рублей, а проданотолько на 43 тысячи.
По всей России шел необратимый, губительный для ярмарок процесс – расширение сети лавочной и магазинной торговли. Но ярмарка из века 19-го перешагнула в век двадцатый, в начале которого ее оборот уже составлял менее половины былой суммы – 20 тысяч рублей.
И еще почти семь десятилетий, уже ушедшего двадцатого столетия, держалась, хирела, но по-доброму куражилась на уржумских лугах «Белорецка ярманка» – преемница Троицкой. Как и везде, были и у нее свои герои, юродивые, а то и просто «убивцы».
Я цитирую мемуары К. С. Минина и перед глазами встает цыганская физиономия Тимки Телепнева, сына горожанина Михаила Александровича Телепнева. Человека смуглого, черноволосого, плотного телосложения. Отпрыск его в Уржуме внешне собой не выделялся, но слыл отчаянным и дерзким малым. Был он года на два старше моего деда. Отличался ранней независимостью и бесшабашностью. Вот что пишет дедушка в своих тетрадях: «…этот Тимка в любой момент мог совершить все, вплоть до убийства, за 10 минут до этого и не зная, что он подобное сделает…» Так и случилось на ярмарке возле одной из пивнушек, где гулял с друзьями уржумский маляр Мусатов, по пьяному делу большой любитель подраться. Был он лет сорока, высок ростом и худощав. Он-то и завязал ссору с одним из своих собутыльников, которого не дали в обиду мужики за другими столами. Не видевший и не слышавший самой ссоры Тимка узрел только концовку стычки, когда из пивнушки как ошпаренный выскочил мужчина. То был потерпевший от Мусатова. «Стой! – повелительно остановил его Телепнев. – В чем дело?»
Через несколько минут состоялась скорая расправа над маляром: Тимка ударил его ножом в живот. Позднее он на базарной площади Уржума убил еще одного человека. Но арестовали Т. Телепнева только после ограбления им «казенки» (винной лавки).
Был суд, вынесший решение: смертная казнь через повешение. Тимку с подельником Вахрушевым повесили в 1907 году у Дубовой горы, где проходил Вятский (Кировский) тракт.
Вот как давно это было. Посудачил народ, повздыхал, поахал над тимкиной судьбой, да и забыл вскоре ярмарочного «убивца». А «ярманка» после того что пчелиный рой, гудела еще не одно десятилетие. И всякий раз на празднество Святой Троицы начиналось шумное, веселое торговое действо. И гремели по булыжным трактам, пылили по проселкам в Уржум со всех окрестностей подводы с товарами. А если Троица – значит, начало лета, солнышко, тепло.
Слово К. С. Минину: «При хорошей погоде на ярмарке было шумно, весело и душно. Крутились карусели. Из цирков-балаганов выбегали акробаты и клоуны и зазывали народ: «Пожалте, пожалте, к нам в балаган!.. Будут показываться воздушные прыжки!» Гримасничал клоун, потешая народ: «Кому мясные пирожки с пылу с жару пятак за пару? А татарам со свининой даром!» Глазевшие на это ротозеи валились с ног от хохота, зная, что татары свинину не едят…»
Гуляла и веселилась, торговала и плясала бесшабашная ярмарка. Горожане, бывало, особо спешили «за дешевкой», где торговцы пускали мануфактуру на копейку за два аршина подешевле. Тут уж не зевай, поспешай, А то расхватают вмиг и не достанется.
Устает к вечеру колобродить ярмарка. Затихает. Купцы отправляются ночевать в прохладные «нумера» гостиницы. Весь остальной люд, кого не приютили знакомые и родственники в городе, устраивается здесь же – на лугах. Коротка для отдыха летняя ночь, когда заря с зарею вплотную сходятся.
В шалашах, под тряпочными навесами, под телегами сонно сопит, что-то бубнит спросонья себе под нос приезжий торговый люд, прикидывает в уме дневные барыши, пока совсем не сморит усталость. А утром, только заорут за речкой и за дальним прудом первые петухи, зашевелится, зачешется, завозится гостеприимная ярмарка, готовясь к встрече первых посетителей нового дня.
Я как-то с большим сожалением обнаружил, что среди многих старых уржумских фотографий не нашлось с Белорецкой ярмарки не единой стоящей, интересной. И, как в насмешку, попалась одна серая, безликая, размером со спичечную этикетку.
И я подумал: пусть иллюстрацией к этому очерку будет мое фото Троицкого собора города Уржума. Это тем и знаменательно, что Троицкая ярмарка, родительница Белорецкой, возникла и окрепла возле стен собора.
Только он в те времена был еще не третьего, а второго варианта постройки 1811-1822 гг. И просуществовал до начала 90-х годов девятнадцатого столетия. Возможно, у кого-то и хранится дорогая реликвия фотография того варианта собора, но ее, к сожалению, не нашлось даже в богатом краеведческом музее г. Уржума. Потому и предлагаю вниманию читателя что есть: Троицкий собор Уржума, один из крупнейших в Кировской области, построенный в 1895-1900 годах по проекту вятского инженера-архитектора Василия Михайловича Дружинина.
Отшумела когда-то ярмарка здесь, у собора. Прекратила свое существование потом и на лугах у Белой речки. Что-то по частицам, по крупинкам, a то и целыми некогда событиями, нашими, кровными и светлыми, национальными, мы теряем навсегда. Невозвратно.
И как тут не вспомнить замечательного кинорежиссера, патриота своей многострадальной Родины Станислава Говорухина и его давний уже фильм перестроечных времен «Россия, которую мы потеряли». Не растерять бы до гиблого конца совсем все наше – исконно и до мозга костей русское, Я думаю, что об этом необходимо писать, говорить на всех уровнях. А, если того требует дело, то и бить в набат. Только где он тот, к примеру, новгородский вечевой колокол?..
Всякий раз мы приезжаем и покидаем Уржум мимо лугов, где шумела ярмарка, через Отрясовскую гору. Прозванную так в народе из-за того, что на ее склоне, крутом и затяжном, через который шел тракт, в былые времена «отрясали», стало быть, грабили разбойники людей, особо торговых. Опасно одиночному купцу с той же ярмарки вертаться домой. Лихие люди с кистенями и дубинами могли поджидать его на Отрясовской горе.
Этим злым промыслом в наши дни никого не удивишь. Новое время несет новые заботы и тревоги. И мы по своему недомыслию постоянно торопим, «подстегиваем» время от одной какой-то пустяшной ожидаемой вехи до другой. А оно, неумолимое, само по себе катит быстро и безжалостно. Все оставляя в прошлом. Хотя бы яркие его страницы сохранить в своей памяти.
Апрель 2001 год.
Знамя Октября (Лебяжье). – 2001. – 2 июня (№ 66). – С. 2: фот.
210 total views, 1 views today