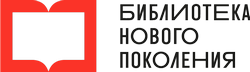Е. В. Заболоцкая. Ожидание и встреча
Поздней осенью 1938 года я вместе с детьми должна была отправиться в Уржум в ссылку. НКВД назначило нам выехать из Ленинграда в день 7 ноября. Город был празднично убран. На остановке у Казанского собора мы едва втиснулись в переполненный трамвай, – хорошо, что багаж был отправлен заранее. Нас провожали родные и друзья, а муж сестры Капитолины Васильевны, скульптор Аполлон Николаевич Шишкин, взялся сопровождать до самого Уржума. Среди провожающих был друг Николая Алексеевича Николай Георгиевич Сбоев, который дал нам уржумский адрес матери своей жены и сказал, что к ней можно будет обратиться по приезде на место.
Дорога была трудная, в Котельниче предстояло ехать с железнодорожного вокзала на пристань. Грузились в пароходик ночью и потом плыли по реке Вятке до пристани Цепочкино, что за 12 километров от Уржума. Не знаю, как бы я с полуторагодовалой дочерью и с шестилетним сыном осилила дорогу, если бы не наш провожатый Аполлон Николаевич. Везде он находил место, где можно приткнуться с детьми. В Цепочкине ему удалось нанять попутный грузовик, который повез нас в Уржум.
Было начало зимы – мягкий мороз и яркий солнечный день. После всего, что мы перенесли в Ленинграде и в дороге, город показался таким уютным. Невысокие домики, впереди колокольня, земля присыпана пуховым, блестящим на солнце снежком. И сознание, что я въезжаю в город, где жил, ходил по этим улицам молодой Коля Заболоцкий, как-то ласково успокаивало меня. Мы подъехали к дому 22 на улице Чернышевского, где снимала комнату мать жены Сбоева Елена Андреевна Польнер, учительница музыки. Она приветливо встретила нас. Хозяйка домика Евдокия Алексеевна была строга, молчаливо замкнута, но в глазах ее светилось сочувствие. Скоро выяснилось, что она может сдать нам комнату, и мы оказались с крышей над головой, да еще с людьми, доброжелательно к нам расположенными. Так началась наша ссылка в Уржуме, как потом оказалось, посланная провидением, чтобы облегчить нам жизнь в тяжелые годы эвакуации из блокированного Ленинграда.
В августе 1939 года я получила письмо от Николая Алексеевича с заявлением на имя Прокурора СССР с просьбой пересмотреть дело и отменить несправедливый приговор. В заявлении говорилось, что обвиняли его в том, что он участвовал в заговоре, который якобы возглавлял Н. С. Тихонов. Тихонов в это время получил орден и был одним из первых поэтов страны. Обвинение было настолько нелепо, что, казалось, опровергнуть его будет легко. Такой ценный документ доверить еще раз почте я не решалась. Ведь заявление было послано в обход существующего порядка. Понимала, что передать его следует непосредственно через правление Союза писателей. Выручили дети. Всю зиму они часто болели. В поликлинике оформили справку, что Никита нуждается в срочном лечении лоренголога, которого в Уржуме не было. Я обратилась с просьбой разрешить показать сына врачам в Ленинграде. Уполномоченный НКВД, у которого мы, ссыльные, каждый месяц отмечались, с ответом на мое заявление тянул. Я дала телеграмму в Москву на имя наркома Берия, и довольно быстро телеграфом пришло разрешение на поездку. Был тот недолгий период «потепления», который наступил после того, как на смену Ежову пришел Берия. Уржумский уполномоченный, человек вообще-то не злой, был обескуражен: вызвал меня, накричал и велел немедленно выезжать. Я впервые в таком учреждении расплакалась, потому что немедленно выехать не могла – дома лежала Наташа с высокой температурой. Договорились, что я уеду при первой возможности. В моем удостоверении ссыльной была сделана отметка о разрешении выезда до Кирова, а оформлять документы на поездку в Ленинград я должна была в Кировском НКВД.
Все наши вещи и привезенные мною чудом уцелевшие при обыске рукописи мужа уложила в большую корзину в виде сундука и оставила на попечении хозяйки, которая все сохранила. Когда через три года мы приехали в эвакуацию, у нас было что менять на продукты, сохранились также рукописи и костюмы Николая Алексеевича.
До Кирова, 180 километров, мы ехали автобусом. При посадке образовалась толкучка, и мы оказались в самой гуще. Наташа у меня на руках, Никита рядом. Вдруг раздался Наташин неистовый крик: «Бася упал, где мой Бася!» Толпа невольно расступилась, кто-то поднял с пыльной дороги Басю – Наташину любимую куклу-клоуна. Все добреют и нам помогают залезть в автобус.
В Киров приехали темным вечером. Я со спящей Наташей на руках, Никита с небольшим саквояжем и сумкой пришли в кировскую гостиницу. Протягиваю в окошечко регистратуры свое удостоверение ссыльной, и нам отказывают в ночлеге. В отчаянии не знаю, что предпринять. Сели передохнуть на стоящие у стены стулья…
Не заметила я, что за нами наблюдал с виду очень благополучный человек – красивый брюнет, одетый в хороший темно-зеленый костюм с нарядным галстуком. Человек этот подходит к окошечку и, склоняясь к регистраторше, резко, раздельными словами произносит: «Вы немедленно дадите номер этой гражданке с детьми». Был ли он «большой человек», был ли гипнотизер – не знаю, но нам сразу дали номер. Повстречавшись с нами в пустынном коридоре гостиницы, он подошел и молча поцеловал мне руку. Свет не без добрых людей.
Дети хорошо отдохнули за ночь. На утре, оставив их в номере, без особых затруднений я оформила в Кировском НКВД разрешение на поездку в Ленинград, где ждала нас радостная встреча с родными и друзьями.
В Ленинграде, ознакомившись с привезенным мной заявлением, друзья решили, что немедля надо ехать в Москву и обратиться в Союз писателей СССР с просьбой ходатайствовать о пересмотре дела Заболоцкого. Через два дня после нашего приезда из Уржума Лидия Константиновна Степанова взяла моих деток к себе на дачу в Лугу, а Николай Леонидович Степанов поехал со мной в Москву. Столица нас встретила радушно. Было начало сентября, писатели жили в Переделкине, и мы отправились на дачу Корнея Ивановича Чуковского. Он встретил нас как родных. Быстро выяснилось, что Фадеев нас примет. К нам присоединился кто-то еще из писателей, и мы пошли. Александр Александрович принял нас в своем кабинете, был приветлив, меня усадил в кожаное мягкое кресло. Прочитав заявление, сказал, что лично передаст его прокурору.
9 сентября 1939 года Фадеев передал заявление Заболоцкого Прокурору Союза Панкратьеву, беседовал с ним, и тот обещал срочно пересмотреть дело. В декабре дело Н. А. Заболоцкого поступило на доследование в Ленинградскую областную прокуратуру старшему следователю Ручкину. Уверенность в невинности и скором возвращении Николая Алексевича была настолько велика, что мне с детьми отменили ссылку и разрешили жить в Ленинграде. Но квартиры у нас уже не было. Право на жилплощадь мы должны были получить через суд, а пока ютились то у моих сестер Лидии Васильевны или Капитолины Васильевны, то у брата Николая Алексеевича – А. А. Заболоцкого, но все они жили стесненно. Выручали друзья, забиравшие к себе детей. Наташа любила жить у Шварцев Никита – в семье Томашевских. Их любили, баловали, и дети с радостью остались у друзей, когда мне еще раз пришлось поехать в Москву хлопотать по делу Николая Алексеевича.
Пришло время суда из-за площади. Это была тяжелая процедура. Я была истец, Галишников, проживающий в бывшей нашей квартире, – ответчик. Конечно, я не претендовала на прежнюю квартиру, но таковы были формальности. Суд присудил, чтобы Литфонд, который распоряжался писательской площадью, предоставил комнату мне с детьми. С согласия Анны Константиновны, жены репрессированного писателя Ю. Берзина, я просила поселить нас в маленькой комнате – кабинете Ю. Берзина,который стоял опечатанный со времени его ареста. Литфонд удовлетворил просьбу, и мы снова стали жить на Канале Грибоедова, 9, соседями наших добрых друзей Шварцев и Томашевских.
Несмотря на все хлопоты и вроде бы благоприятные обстоятельства пересмотр дела не привел к освобождению Заболоцкого. Надежда окончательно исчезла, когда началась война. В 1942 году после эвакуации из осажденного города по льду Ладожского озера, месячного лечения от дистрофии в Костроме, болезни детей скарлатиной и недолгой жизни в Кирове у Шварцев мы, живые, вновь оказались в Уржуме. Как мы там существовали во время войны, видно по моим письмам.
В середине августа 1944 года я получила письмо от Николая Алексеевича, где сообщалось: «…не исключена возможность, что скоро ты получишь от меня радостное известие». Это письмо внесло надежду, что время долгожданной встречи с папой приближается. И, казалось, отпали все сомнения, как нам жить дальше и куда ехать, конечно, как только можно будет, – к нему!
Томительно тянулся для нас сентябрь. После радостной телеграммы об освобождении, полученной 1-го сентября, я отправила Николаю Алексеевичу несколько писем, три телеграммы с оплаченным ответом, а от него вестей все не было. Наконец, числа 20-го сентября, получила письмо, отправленное месяц назад. В нем были изложены доводы, из которых следовало, что соединиться в одну семью нам разумнее, когда строительный лагерь переедет по назначению на новое место, а когда это будет – неясно. Я же разумных доводов понять не могла.
Теперь, когда не разделяет нас ни тюремная решетка, ни лагерная проволока, почему я с детьми не должна стремиться к нему, почему я не могу преодолеть нас разделяющее расстояние? Ждать? Чего ждать? Ведь столько раз за эти годы и Николай Алексеевич, и я с детьми подвергались смертельным опасностям, но судьба сохранила нас. И тем более, если его могут отправить на фронт, я должна спешить, чтобы он смог до фронта увидеть семью. Ведь он столько лет мечтал об этом! И не могла понять, почему он десять дней не мог сообщить нам о своем освобождении. Потом поняла: он сохранился таким, каким был – обстоятельным, разумным, сдержанным, без эмоциональных порывов, которые были свойственны мне. Хотел разъяснить, что означает освобождение по директиве, какие его права, что ждет нас, когда мы приедем к нему, искал комнату. Готовился взять на себя ответственность и заботы обремененного семьей человека.
В село Михайловское Алтайского края одно за другим стали приходить мои письма, а Николай Алексеевич решил оформить документы для нашего приезда, не дожидаясь выяснения, когда и куда отправится лагерь, при котором он был закреплен как вольнонаемный техник-чертежник.
И вот в начале ноября все наши документы на выезд в порядке, и мы готовы к отъезду. С собой мы старались взять побольше продуктов (овощей с огорода), насушили черных сухарей, даже водка у нас оказалась – ее выдали к Октябрьским праздникам. Но с нами едет и рукопись начатого перед арестом перевода «Слова о полку Игореве», и частично оставшиеся материалы, нужные для продолжения работы. Их не забрали при обыске, так как они были в Доме творчества в Елизаветине, где Николай Алексеевич начал перевод.
Все оставшиеся вещи и немногие рукописи я уложила в корзину и снова оставила на попечении хозяйки Евдокии Алексеевны. Намучавшись с жильем в переполненном эвакуированными Уржуме, мы переехали к ней, как только в ее доме освободилась комната. Хотя и очень трудные годы мы пережили в Уржуме, я всегда со светлым чувством вспоминаю город и людей, с которыми там свела судьба.
От Уржума до Кирова мне поручили сопровождать интернатских детей, отправляемых в ленинградское ремесленное училище. Это облегчало отъезд. Утром 5 ноября 1944 года я с Никитой, Наташей и багажом приходим к интернату, где я работала все годы уржумской жизни в эвакуации. Ожидаем грузовик. Вот он подъехал, и никакие старания директора и воспитателей не могут удержать детей – они гурьбой бросаются к грузовику, закидывают свои вещички и, перемахивая через борт, набиваются в кузов. Я должна принять детей по списку, кое-как удается их пересчитать. Погружаем наш багаж, Наташу, Никиту, залезаю я, и грузовик трогается. Нам предстоит длинный путь до Кирова.
Доехали до Цепочкина – там переправа на пароме через реку Вятку. Посадка после переправы была спокойная, все разместились поудобнее и нас повезли дальше.
На каком-то расстоянии, когда мы уже порядочно отъехали от Цепочкина, грузовик наш остановил, видимо, какой-то начальник и объяснил, что мы должны высадиться, а грузовик нужен для выполнения срочного задания, связанного с осенней ликвидацией навигации по реке Вятке.
Мы оказались на песчаной поляне, заросшей кустами ивы и невысокими деревьями. Начальник остался с нами. Он затеял веселые игры с детьми. Вечером, когда уже стемнело, разжег костер, что-то рассказывал детям и даже пытался прыгать через костер. Наконец приехал грузовик. В кузове дети расположились кто на нашем багаже, кто на своих сумках и стали дремать. Но среди нас появился новый пассажир. Это был сильно подвыпивший сотрудник речного пароходства в форменной фуражке. Среди наших старшеклассников он присмотрел девочку и, вытянув руки, стал к ней продвигаться. Встав на его пути, я схватила его за руки. Между нами завязалась борьба. Раскинув сцепленные руки, мы старались одолеть друг друга. На мне была кожаная финская шапка с отогнутым бортом, из-под которого вихрами торчал черный бараний мех. Бог знает, что он подумал с пьяных глаз, но, усилив сопротивление, он стал кричать: «Черная страшная, уйди от меня, не хочу тебя, хочу вот ту, молодую»… Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не вмешался добрый начальник, который сидел с водителем.
6 ноября мы приехали в Киров. Там нас подвезли к Дому железнодорожников. В нашем распоряжении была большая комната, заставленная топчанами. Дети расположились отдыхать, а мне надо было идти в Кировское Облоно оформлять документы.
Идти в Облоно мне было немного страшновато, вдруг там обнаружится, что я та воспитательница, которой запретили увольнение. Но все обошлось благополучно. Мне дали талоны на обед и на санобработку. Я вернулась в Дом железнодорожников, быстро собрались интернатские дети, и мы пошли готовиться к дороге. Мои же дети остались ждать, когда я, уладив все дела, приду за ними.
Дата отправки реэвакуированных в Ленинград. Киров хорошо подготовился. Мы без особой задержки выполнили все, что нам полагалось, пошли на вокзал к указанному вагону Ленинградского состава. Я сдала группу воспитательнице, сопровождавшей вагон, распрощалась с детьми и поспешила покупать билеты на поезд до Кулунды.
У билетной кассы была толкучка. Билеты на проходящий поезд начинали продавать за сорок минут до прибытия. Когда я получила билеты, времени оставалось в обрез. А дети и вещи были еще в Доме железнодорожников. Для перевозки багажа мне удалось нанять тележку на двух больших колесах. За все мои странствия не припомню случая, чтобы люди относились к нам без сочувствия. Вот и этот возчик, зная, что до отправления поезда осталось совсем мало времени, громыхал тележкой, почти бегом поспешил за мной к Дому железнодорожников. Дети быстро собрались, вещи погрузили на тележку и помчались к вокзалу. Багаж успели сдать. Подошел поезд, мы погрузились в плацкартный вагон. Усталые, измученные, мы, наконец, спокойно вздохнули – мы едем к папе. Соседом нашим был военный, который угощал детей раскрошившимся в его мешке печеньем. Не помню, сколько длилась дорога, как и что мы ели, как пересаживались на другой поезд в Татарской… Мысли стремились только вперед… Но приезд в Михайловку 17 ноября 1944 года запомнила на всю жизнь.
В Кулунде у нас снова была пересадка. По недавно построенной заключенными ветке железной дороги мы доехали до станции Михайловка. Здесь около путей стоял маленький домик, где дежурил диспетчер. Железнодорожная ветка еще не была сдана и находилась в ведении лагеря. Дежурный был предупрежден, что к бывшему заключенному едет семья. Он должен был по телефону (по селектору) сообщить в управление о нашем приезде, чтобы за нами выслали лошадь. Николай Алексеевич был не уверен, что сможет сам приехать за нами. Расписания регулярного не было, мы не знали, когда точно приедем, он мог быть на работе. Вблизи «станции» не было ни одного дома – поселок был километра за три… Дежурный, молодой паренек, был внимателен, рассматривал нас с интересом. Стал звонить в управление и вдруг предложил: «Хотите, я сейчас позову его к телефону?» Это было совсем неожиданно. Все годы меня преследовал страх – каким я его увижу. Единственное свидание в тюрьме (в «Крестах») было 5 ноября 1938 года. Я уже знала, что седьмого мы уезжаем в ссылку в г. Уржум. Николай Алексеевич ждал отправки в лагерь со дня на день. Мы успели сообщить друг другу наши горькие новости. Я просила писать в Уржум до востребования.
Уже не помню, от кого я узнала, что 18 дней он провел в тюремной больнице для умалишенных. Во время свидания всматривалась в его лицо – следов болезни не видно. Но какое оно затравленное, какое нездоровое, и слышит как будто плохо. Заключенные стояли по одну сторону барьера за решеткой, как на птицеферме, только проволока потолще, затем расстояние с метр, барьер и опять решетка, по эту сторону стояли мы, пришедшие на свидание. По образовавшемуся коридору ходил охранник. И все кричали, хотели что-то сказать, – конечно, расслышать было трудно.
Все годы вставало передо мной это лицо, решетка. Каким же он стал теперь? И вот в телефонной трубке его голос –радостный бодрый. Нет! Поверить, что пройдет совсем немного времени, не годы, не день, совсем немного, и я увижу его, – невероятно. Но это будет!
Дежурный устроил нас на прямоугольном деревянном диване направо от двери. Комнатка совсем маленькая с большой печью. Вот уже стемнело. Дети дремлют, сидя на диване, а я все выхожу посмотреть, не едут ли. Но нет, не едут. Уже совсем темно. Небо в звездах. Степь, тишина. Казалось, я не могу при свете с ним встретиться, можно не вынести счастья. Все нет, все нет. Я сижу подольше. И наконец выскакиваю и сталкиваюсь в дверях.
Папа, который не терпел никакой аффектации, опустился перед детьми на колени, смотрел, смотрел… И вдруг конюх, приехавший с Николаем Алексеевичем, приглушенным голосом:
– Начальство!!
Конюх, Николай Алексеевич, диспетчер – все вытягиваются в струночку, руки по швам – молча приветствуют начальство. Начальство приехало по своим делам, на нас не обратило внимания, но мне стало жутко. Мы погрузились в запряженные деревенские сани-кресла – папа и я на сиденье, дети в ногах на вещах. Чтобы после теплого помещения дети не простудились, я с головами накрыла их пледом, и они радостно стали ворковать: «…папуньчики, Колюньчики, лапуньчики». Над нами купол звездного неба, сани поскрипывают по снежной равнине, и хочется, чтобы путь этот был подлиннее, но мы быстро доехали.
Радушно нас встретила пожилая хозяйка. Вскипятила самовар, поставила на стол хлеб, соленый арбуз. Жила она в избе с дочерью Нюрой, но дочь редко бывала дома, – с обозом возила зерно в город за много километров. Изба была общая. Хозяйка спала на печи. В нашем распоряжении были две кровати. Под одной из них жили чесоточные бараны. По избам их раздал колхоз, чтобы они были в тепле и не заражали стадо.
Никакие неудобства нас не огорчали: ведь мы были вся семья вместе. Трудная зима в Михайловском была, пожалуй, самой уютной для нашей семьи. Еще не ушло, еще осязалось, стояло за спиной все пережитое. Чудо нашего соединения, освещало жизнь радостью, питало нежность и доброту в наших отношениях.
Заболоцкая Е. В. Ожидание и встреча // Уржумская старина: краевед. альм. – Уржум, 1992. – № 3-4 (8). – С. 20- 25.
370 total views, 1 views today