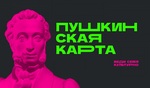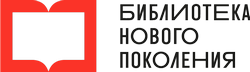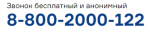Н. Сбоев. Мансарда на Петроградской (Заболоцкий в 1925-1926 годах)
Осенью 1925 года я вынужден был выехать из родного Уржума для приискания себе места в жизни. У меня был хороший адрес: Ленинград, ул. Красных Зорь, д. 73/75, мансарда, комн. 5.
Этот адрес я предпочел другим из-за значительности и звучности слов «Ленинград» и «мансарда».
Комната 5 до моего приезда была достаточно заселена: в ней жили студенты Педагогического института Блохин Александр Михайлович – тверяк, Заболотский1 Николай Алексеевич – из Уржума и Резвых Николай Петрович – также из Уржума.
Товарищи потеснились, отвели мне угол и помогли сколотить из большого ящика сооружение для спанья.
Жили в нужде; во владении этой братии были предметы фабричного производства – примус, чайник, котелок для варки пищи, связка бутылок для керосина. Другие предметы индивидуального пользования были привезены из дома – это были плетенные из ивы корзины, складные ножики и кое-какая посуда.
Н. П. Резвых был обладателем карманных часов – единственного предмета роскоши на четверых.
У нашей комнаты площадью примерно в десять метров потолок был скошен по ходу крыши, и воздуху в ней было маловато. Окно давало свету достаточно. Вид из окна был превосходен: за Большой Невкой мы любовались частью Выборгской стороны до Политехнического института и Сосновки. Паровое отопление работало исправно, но все же при северном ветре вода в чайнике застывала.
Стипендия у студентов в ту пору была, видимо, очень незначительна – питались «во вся дни» черным хлебом с кипятком. Но в какие-то дни благополучия бывал и приварок – каша с постным маслом или вареная треска. Теперь такой трески нет – нет такого запаха: от одной сваренной трещины дух шел по всем проходам и комнатам мансарды.
Нередко бывали дни полного безденежья у всей братии; флегматичные особи в эти дни томились на ложах своих, а другие изматывали последние силенки, мыкаясь по стогнам града в поисках любой работы, но работы не было.
Случайно удавалось подработать на улице при снежных заносах по очистке трамвайных путей, на погрузке и разгрузке дров; мне удавалось иногда «работать» статистом в Народном доме (1 рубль за выход), работал я также натурщиком в Академии художеств, в Художественном училище на улице Герцена, в Обществе художников, но все это случайно – при наборах «от ворот».
В один из таких голодных дней Н. П. Резвых поднялся с топчана, мрачно, без звука, исчез. Бедняга не вынес и продал часы (память об отце); принесенную им снедь мы все вкушали в молчании.
Свойственная молодости жизнерадостность, впрочем, не покидала нас: в часы общего сбора в комнате возникали острые споры по поводу и политических дел, и дел искусства, тем более что Н. А. Заболоцкий часто читал нам свои стихи и стихи других поэтов. Сборники стихов, отдельные оттиски от машинки и просто писанные от руки, попадали к нам на мансарду частенько. Общее пение допускалось в редких случаях по причине чрезвычайного проникновения звуков во все норы мансарды. Пели мы: «Вечерний звон», «Быстры, как волны…», «Вниз по матушке по Волге…», «Черный ворон» и из духовных песнопений – «Хвалите имя господне…», «Се жених…», «Чертог твой…». Голоса у всех были изрядные, выходило вполне хорошо, особенно в части духовных песнопений.
Нужно сказать здесь, что склонности к религиозным переживаниям молодежь не имела, кроме меня. Н. А. Заболоцкий как-то раз сделал даже попытку повлиять на меня в сторону отвлечения от религиозных настроений и высказал тот практический аргумент, что атеистическое, естественнонаучное мировоззрение недоступно для насмешки, тогда как верующего оскорбить очень легко.
Утренний, тяжелый воздух нашей комнаты не раз был поводом для литературных упражнений («Воздух туг, упруг и звучен, закатавшийся в шары»). Помню, что один из наших товарищей по Уржумскому реальному училищу, Польнер Борис Александрович, уже успел к тому времени окончить экономический вуз и работал бухгалтером в Сарапуле. Он сразу же там женился, что вызвало в нас, «саврасах без узды», и жалость, и насмешки. Этому человеку было сочинено сообща письмо по поводу поспешной женитьбы и перехода к размеренной, сытой жизни. В письме описывалась вольная жизнь четырех отроков в тесной келье с картинкой поклонения благочестивых отроков в стихарях топору, парящему в воздухе, с надписью: «О, топоре святый, како висиши на воздусе, ничем не держомый, зело блистающ!»
Н. А. Заболоцкий и Н. П. Резвых обладали хорошими способностями к рисованию, и наша комната украшалась характерными эпизодами из жизни, карикатурами. Это было свободное творчество, лишенное каких-либо претензий на «красоту» или профессию.
К сожалению, все эти памятные записи и картинки не сохранились. Не сохранилась и «Уржумиада» Н. А. Заболоцкого, в которой очень живо и правдиво изображалась молодежь Уржума, настроения той молодежи в то бурное, революционное время.
Рвение к учебе в Пединституте у трех студентов отсутствовало. Забота об учебном деле наблюдалась лишь у А. М. Блохина, кончавшего институт для работы на учительском поприще. Н. П. Резвых вскоре окончательно порвал с учебой, убоявшись бездны премудрости педагогических наук… Н. А. Заболоцкий, видимо, окончил это заведение, но скорее для проформы, – он уже определился как литературный работник и для нас, его товарищей и сверстников, и для многих других людей. Помню, в 1926 году Н. А. пригласил меня в Дом печати на вечер, посвященный его поэзии. Зал был полон сочувственной для Н. А. молодежью.
Выступил и я с одобрением его поэзии – в смысле доходчивости для всех живых и простых людей.
В конце 1926-го или в начале 1927 года наше совместное, мансардное существование кончилось. А. М. Блохин начал работать преподавателем в Ленинграде и переехал. Н. А. Заболоцкий был призван в армию, после службы поселился на Конной улице и, насколько помню, жил там в комнате один. Нас с Н. П. Резвых как неплательщиков попросили выехать. Мы проживали на Саблинской улице в комнате над кипяточной (чайник кипятку одна копейка), пользовались готовым теплом. Безработица еще года два била нас. С 1929 года, когда безработица пошла резко на убыль, мы поступили на работу, на постоянную работу!
1 Орфографию своей фамилии поэт изменил позднее. – Ред.
1963
Сбоев Н. Мансарда на Петроградской (Заболоцкий в 1925-1926 годах) // Воспоминания о Заболоцком / Сост. Е.В. Заболоцкая и А.В. Македонов. – М.: «Советский писатель», 1977. – С. 42-45.
409 total views, 1 views today